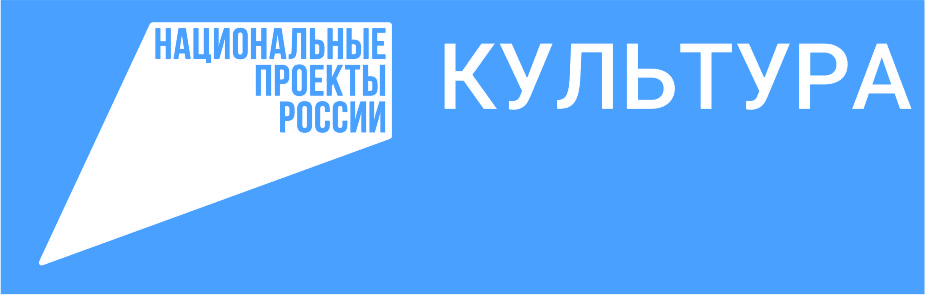В ПРИСУТСТВИИ ЛЮБВИ И СМЕРТИ
В Екатеринбурге закончился фестиваль «Петрушка Великий»
Начиная разговор о VIII Международном кукольном фестивале «Петрушка» (Екатеринбург, сентябрь 2016), заявившем в качестве основной темы «любовь и смерть», сразу хочу обозначить угол моего зрения. Удивиться, что марионетку используют на сцене как планшетку, я не сумею. Да чисто театроведческий ракурс, мне кажется, и не выявит самое интересное, что творилось на фестивале. В современной философии есть такой популярный сегодня термин — трансгрессия. Он означает некое преодоление привычных рамок, границ, некий переход за. Вот этот процесс как раз переживает театр кукол, по крайней мере, в зоне своих передовых поисков, которые и были прежде всего, конечно, представлены на фестивале.
И речь не только о таких спектаклях, как, например, «Толстая тетрадь» Пермских кукол (режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян), взявший в этом году «Золотую Маску» и получивший Гран-при здесь. Он многократно описан (в том числе и в ПТЖ). Скажу лишь о главном впечатлении: сила и спокойная убедительность, прямо-таки неизбежная закономерность, с какой в этом спектакле творится превращение маленьких братьев из хорошей семьи, которых мама оставила на время войны в приграничном городке у бабушки, в циничных подростков-убийц (последовательно — курицы, кошки, умирающей соседки, сексуально озабоченной служанки, бабушки, отца), едва ли не снимает вину с них самих, поскольку все делается окружением, той системой человеческих отношений, в которую они попадают. В этом спектакле, несмотря на присутствие — и какое! — кукол, «кукольность» как таковая отсутствует совершенно. Кроме привычных коннотаций с «кукольностью», кукла, как учил на фестивальной лекции крупнейший ее исследователь Марек Вашкель, это то, что благодаря актеру обретает на сцене душу. Мы же подробно наблюдали, как из живых веселых добрых детей постепенно душа уходит.
Но обратимся к традиционному для кукольного театра материалу, посмотрим, как представлены здесь сказки — народные, андерсеновские, про драконов, лебедей, сироток, молодцев, красавиц — те, которых и в любом театре, и на данном фестивале всегда в избытке. Зрительским триумфом фестиваля стал петербургский спектакль «Далеко-далеко» БТК (режиссер Анна Иванова-Брашинская, художник Виталия Самуйлова): на него ходили по три раза подряд, большой зал екатеринбургского театра кукол к третьему показу был переполнен; на нем плакали, даже театральные люди признавались, что такое потрясение в кукольном театре испытали впервые. Известный сказочный сюжет с превращенными мачехой в диких лебедей братцами, которых надо спасать сестрице, за ночь связав каждому по рубашке из крапивы, обратился здесь в поэтическую притчу о любви и смерти, о смертельной жертве, которая, может быть, есть обратная сторона любви. Все эти страшные смыслы проступают постепенно, а вначале спектакль мгновенно влюбляет в себя как раз своей веселой молодой легкостью. Мальчик и девочка растут на наших глазах, превращаясь — театр кукол! — в немыслимых веселых гигантов, которые, самозабвенно играя в ладушки, производят на свет маленьких мальчиков (головы артистов, посаженные на совсем маленькие кукольные тельца). Долгожданная девочка выпархивает сразу девушкой, окруженная выросшими братьями, статными отборными парнями. Она в исполнении Василисы Ручимской, как современный эльф, тоненькая, не особенная красотка, с короткой смешной стрижкой, порхает среди них на поле любви, которое обозначено здесь пластикой касаний, игр, танцев, поцелуев (хореограф Татьяна Гордеева). Изысканная мачеха, точеная, с лебедиными плавными движениями, стирает в корыте синие рубашки парней, превращая их в белые, в будущие крылья… Поворотным пунктом спектакля становится надевание братьями белых рубашек — пластика, а это основное здесь выразительное средство, из легкой и гармоничной превращается в мучительные судороги, некрасивые, непривычные на сцене. Затем — крики лебедей, что в виде свитых рубашек отчаянно вьются над сестрицей, ее безумные метанья, нервные трагические танцы-монологи, наполненные болью и страхом не успеть. И, наконец, финал, когда все же спасенные братья склоняются над отдавшей все силы мертвой девушкой. «Ваня» режиссера Алексея Лелявского и художника Александра Вахрамеева, приземлившийся на своем разбитом самолете на фестивальную сцену тоже из Петербурга и тоже взявший в этом году «Золотую Маску» за режиссуру и лучшую роль, спектакль еще более странный. Здесь тебе и старик со старухой, и дракон, пожирающий все и вся, и Ваня, что отправляется воевать и спасать, и красна девица, обернувшаяся белой птицею. У меня ни за что не хватило бы способности описать все кукольные чудеса, конструкции, многоуровневые регистры существования мира, созданного на сцене. Но в фокусе внимания то, как все здесь сдвинуто, смещено — и эстетически, и сюжетно, и, конечно, смыслы проступают совсем новые, не формулируемые однозначно. В центре сценической картинки — ярко освещенная «живая» голова совсем простого парня в шлеме и пилотских очках (Михаил Шеломенцев), от которого, как сказали на обсуждении, «совершенно нет противного запаха театра». И который, тем не менее, как демиург, творит на наших глазах историю при помощи бесчисленного количества разных мелких куколок, сооруженных из подручных средств страшилищ, старых чайников, детских домашних игрушек, лежа где-то в разбитом, видимо, самолете, потому что кроме шлема и очков — на авансцене сломанное самолетное крыло. Вопрос, откуда у этого нового Экзюпери оказался с собой целый чемодан кукол, остается, правда, без ответа. Но он тонет в невероятном эстетическом богатстве спектакля. Он тонет в вопросах гораздо более интересных — сюжетных, смысловых, — которые спектакль задает, оставляя нас с ними один на один. Например, почему у дракона в животе Париж с Эйфелевой башней и Мулен Ружем, и все жертвы наслаждаются там всеми прелестями потребительского общества? Или почему Ваня, увлекшись по ходу дела спасением себя и возлюбленной от разбуянившихся пьяных братьев, так и не победил дракона, да и вообще забыл о нем? Спектакль абсолютно не производит впечатления неряшливости, какой-либо недодуманности. Его многозначность принципиальна, она эстетически поддерживается общей интонацией ироничной грусти, бравой печали, что плавает в больших круглых глазах этого Вани с окраинных улиц современных мегаполисов.
Минский спектакль «Отчего стареют люди», поставленный тем же Алексеем Лелявским вместе с художником Татьяной Нерсисян, на фестивале шел сразу после «Вани», с перерывом едва ли больше часа, поэтому фабульное сходство особенно бросалось в глаза. Опять бабка с дедом, опять герой, на этот раз Рыгорка, призванный спасти мир, его погибшие братья, краса-девица, чудище, злые силы, духи… Люди — мягкие комочки ткани, то нелепые, то противные, то и вовсе отвратительные. Духи, пользующие людей, бабку и дедку в больнице, — актеры в белых медицинских халатах. Но чудище здесь принципиально непобедимо, хотя Рыгорка, тоже простоватый такой солдат-сверхсрочник, полон, как ему и полагается, отваги и оптимизма в начале пути. По ходу действия спектакля постепенно чудище-зло оказывается не только локализованным злодеем-начальником в растянутых кальсонах, оно — всюдно. Оно практически в каждом встречающемся на пути Рыгорки человеке. Отчего стареют люди? Отчего они болеют? Отчего так отвратителен мир, который Рыгорка, как ясна зорка, прилетел спасать? Не спас. Зло, которым люди отвечают на добро, непобедимо. И улетел Рыгорка, как ясна зорка, куда-то там к себе, обратно, улетел побежденным. Такой вот unhappy end.
А в иркутском кукольном театре «Аистенок» в спектакле Юрия Уткина «Живая душа», где перед нами вырастает полный выразительных звуков, песен, сказаний космос, сотканный из маленьких лесов и речек, избушек и колодцев, волшебных деревьев и птиц (художник Наталья Павлишина), с шестилетками говорят о христианской любви. Правда, достаточно абстрактно и «дежурно», но зато серьезно и очень красиво — о важности смерти, ее очистительном назначении в жизни людей.
Курганский «Гулливер» привез на фестиваль вообще какое-то невероятное действо «Сияющая в ночи», требующее от зрителей включения совсем непривычных каналов восприятия. Хотя и здесь сказка, со стариком и старухой, тоже прилетающей и улетающей, только на Луну, героиней, оставляющей без сиянья своей красоты и бабку с дедкой, и весь мир. Но в данном случае, в данном спектакле главное совсем не история, новые смыслы рождаются от живого соприкосновения с совсем другой — японской — культурой, где благодаря тщательной работе с курганской труппой режиссеров Ёити Нисимуру, Мияко Куротани и художника Кадзунори Ватанабэ по-другому протекает само бытие мира, иначе двигаются актеры, которые совершенно удивительно взаимодействуют с временем и пространством, с вещами, друг с другом, со своими кукольными масками и персонажами, по-иному выражают чувства — радость, печаль, горе, любовь. Спектакль, как река, плавно всасывает тебя в воронку своего медленно-медитативного течения и требует от тебя, человека нашей культуры, определенного эстетического усилия для восприятия всей творящейся на твоих глазах печальной красоты.
В отношениях с питерским «Серебряным копытцем» театра «Складной жираф», где замечательный кукловод Григорий Лайко (он же режиссер спектакля) на наших глазах создавал, как будто перелистывая страницы огромной книги, чудесный, полный доброты марионеточный мир бажовской сказки (художник Мария Мурашова), у меня произошел свой собственный «сдвиг». Спектакль шел в начале фестиваля, и когда на обсуждении (а публичное обсуждение каждым их шестерых членов жюри всех спектаклей — обязательное условие «Петрушки») его с полным единодушием раскритиковали, назвав вообще «нефестивальным», — я за него обиделась. Но погружение в общий трансгрессивный фестивальный контекст дало понимание того, почему этот спектакль действительно выпадает из него при всем своем обаянии, точно, однако, соответствующем привычным кукольно-театральным ожиданиям.
Тема «любви и смерти», сама по себе не самая очевидная для кукольного искусства, была, тем не менее, как видим, достаточно последовательно выражена в фестивальных спектаклях и, кстати, во всем фестивальном бульоне, который, как всегда, мастерски «сварили» екатеринбургские кукольники на общегородском и внутрифестивальном открытии, на феерическом закрытии, в замечательно талантливых коротких юморесках, предварявших каждый спектакль. Выросла она, конечно, из «Ромео и Джульетты» Олега Жюгжды, представленного хозяевами, спектакля спорного, очень интересно решенного сценографически Юлией Селаври. Череп как символ смерти присутствует там на сцене больше всех других персонажей, поскольку все они, включая Меркуцио и кормилицу, кроме любящих (и потому живых) протагонистов, имеют не лица, а только черепа (что не может не уплощать, не лишать объема многохарактерные шекспировские образы). Эти же черепа с красными розами в сжатых челюстях, став логотипом фестиваля, перекочевали и на футболки, сумки, пряники. Они же очень весело пели на банкете, напоминая всем участникам, что «черепу не скажешь „до свиданья“, череп не прощается с тобой». И это, конечно, если говорить уже серьезно, по большому счету, так и есть, мы все время несем в себе будущую смерть. В эпоху эллинизма, пишут исследователи, существовал храм старости и смерти, куда водили детей.
На одном из последних обсуждений из груди одного из членов жюри, известного театрального режиссера, автора многих открытий в кукольном театре, В. Шраймана, вырвался стон: «Как замылены глаза российских режиссеров по линии одного и того же круга тем, круга выразительных средств! Ты смотришь бесконечно один и тот же спектакль на сцене театра кукол (российского, имею в виду). Вот они бродят — вечные Аленушки, солдаты, Машеньки и медведи, гусята, зайчики… и ты просто звереешь. Нет, все это прекрасно и нужно, но иногда ты просто звереешь. Ты входишь в зал, смотришь на сцену, уже понял, что будет, так было тысячу раз. Замылено, затерто все бесконечно, ужасно. И смотреть уже не хочется…» Все это было сказано, чтобы оттенить оригинальность, свежесть, живую пульсацию жизни спектакля кукольного театра Республики Карелия «Железо», — он про советскую пожилую пару, про их мечту доехать до моря с пальмами, про любовь его к «Запорожцу», ее к «Зингеру», — на мой взгляд, самого обаятельного спектакля фестиваля (режиссер Борис Константинов), где автослесари (живые актеры), танцуя с ангельскими железными крылышками, с нежностью представляют нам историю жизни и смерти (в финале Зина с Веней в гипсе лежат у моря с пальмами, и непонятно — на каком они свете) своих трогательных, очень узнаваемо-конкретных и в то же время советско-архетипичных кукольных героев.
Однако совсем не только этот спектакль, но весь фестиваль в целом показал, что ситуация начала меняться, что в детском (и тем более взрослом) кукольном театре происходит сегодня что-то очень важное, когда со всеми пришедшими туда маленькими и большими людьми разговор ведется уже не в облегченно-умильном тоне, а серьезно, в присутствии предельных состояний человеческого бытия.